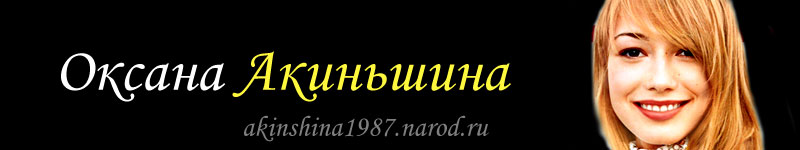
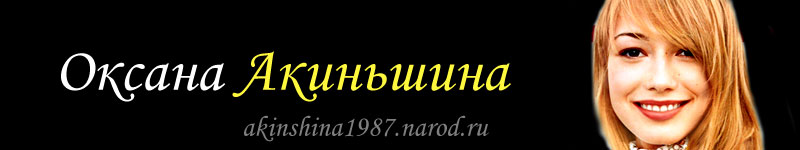
|
|
О стилягах
Впервые узнав о жизни на Западе из трофейных фильмов, молодые люди были покорены этим иным, волшебным миром. Интерес подогревали «весточки» из «несоветской» реальности, доходившие в Союз благодаря дипломатическим работникам, которые привозили одежду, журналы и запрещенные пластинки. В это время становятся популярны неизвестные доселе танцы и джаз, а песня из культового фильма «Серенада Солнечной Долины» «Поезд на Чаттанугу» («Chattanooga Choo Choo…») превратилась в своеобразный гимн стиляг. Стиляги были разными. Одни были более эпатажными, другие более элегантными. Была «золотая молодежь» – дети тех, чьи родители были «выездными». Были стиляги, старательно подражавшие им. Были и простые, самостоятельные стиляги, сделавшие таковыми сами себя. Но все они – по одну сторону баррикад. Здесь все и всегда друг для друга – чуваки и чувихи. Свои. Клетчатые пиджаки, набриолиненные коки, брюки-дудочки, обтягивающие юбки. Наряды дерзкие, яркие, шокирующие. Вызывающие «праведный гнев» у советских граждан, привыкших к вынужденному единообразию. Все это ради того, чтобы заявить: «Я не такой, как все!»; чтобы продемонстрировать свою независимость; ради того, чтобы и свои, и чужие видели: перед ними «стильный чувак»! Идейные выпендрежники
Одежда – знаковая система. Одежда – игра. Одежда – праздник. Одежда – средство для творчества. Мода стиляг была игривой и шутовской, сочетала несочетаемое, высокое и низкое, элегантное и экстравагантное. Эксперименты с внешним видом характерны для молодежи всех времен и народов, но в СССР 1950-х годов они были не просто юношеским желанием выделиться. Образ жизни стиляг был бунтом против унылой действительности, за который многим приходилось расплачиваться отнюдь не только спорами с родителями, но и образованием, работой, а порой – свободой. Впрочем, шуты всегда рисковали ради того, чтобы взбаламутить застоявшееся окружение.
В 50-е годы стиляги стали отменной мишенью для сатириков и карикатуристов, обличителей космополитизма, низкопоклонничества перед Западом и прочих радетелей советской нравственности. Вот описание из опубликованного в журнале «Крокодил» в 1949 году фельетона Д. Г. Беляева, в котором впервые появилось слово «стиляга»: «В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид: спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые; таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клёша; ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши. Юноша оперся о косяк двери и каким-то на редкость развязным движением закинул правую ногу на левую. Обнаружились носки, которые слепили глаза, до того они были ярки…» А началось все после Великой Отечественной войны. Тогда СССР наводнили трофейные товары и одежда, а на экранах появились западные фильмы, показавшие совершенно иной мир – мир музыки, красоты и нарядной одежды. Могла ли жаждущая перемен, измученная убогим бытом и советской уравниловкой молодежь не ухватиться за эти праздничные образы? Новые денди срисовывали свой имидж с киногероев, стараясь во всем подражать им – в меру сил и возможностей. Разумеется, возможности у всех были разными. И дело не только в деньгах. Важно было «достать» правильный предмет гардероба. Лишь дети дипломатов могли позволить себе щеголять в обновках, что называется, из первых рук. Тем же, кто попроще, приходилось выкручиваться: доставать одежду и аксессуары через знакомых, перекупать втридорога у фарцовщиков, караулить по комиссионкам западные ткани, чтобы заказать костюм у портного. Сначала помогали вещи, присланные по ленд-лизу: «Я носил из подарков американских, шикарные, например, были брюки, в такую полоску туманно-серебристо-белую. Интересные были штаны», – вспоминает Валентин Тихоненко, один из первых ленинградских стиляг. Позднее вещи стали покупать у иностранцев. Финны, приезжавшие в Ленинград, продавали одежду целыми чемоданами. В Москве у каждой крупной гостиницы толклись фарцовщики – «утюжили» иностранцев. Некоторые стиляги сами «утюжили», другие только перекупали вещи. Разумеется, эта деятельность была вне закона и сурово каралась. Стильно одеваться было делом чести, а умение отличить настоящую фирменную «шмотку» от подделки и дешевки – предметом гордости. Знатоки сразу опознавали «правильную» вещь по особым признакам и знаковым деталям – таким как обязательная пуговичка сзади на рубашке, петелька-вешалка на спине, выделка швов. Умение как бы невзначай показать фирменный лейбл также высоко ценилось, существовали специальные приемы демонстрации одежды. Фирменный плащ, например, можно было опознать по подкладке, поэтому чтобы приоткрыть ее, модники специально засовывали руки в карманы пиджаков. Одежда позволяла выделить собратьев по стилю среди толпы, дарила ощущение своеобразного бунтарского заговора против унылого однообразия советского ширпотреба. Опознание марки на ходу считалось высшим пилотажем. Как рассказывал о таких прогулках опытный модник Саша Власов, «я на ходу посылал приветствие плащу». Обезьяны, попугаи и северные олени
Итак, давайте представим, как выглядели отважные экспериментаторы в мире идеологически выдержанных стандартов.
Первые стиляги ходили в мешковатых пиджаках и широкополых шляпах, широких ярких штанах, носках немыслимых расцветок и пресловутых галстуках «пожар в джунглях», длиной почти до колен. Позднее стали популярны легендарный набриолиненный кок и тонкие усики-«мерзавчики». На смену широким брюкам пришли знаменитые «дудочки» – штаны, сильно зауженные книзу (в то время даже на ширину штанин существовало распоряжение ЦК – 32 см и ни миллиметром меньше!). Вошли в моду элегантные двубортные пиджаки с удлиненными полами и широкими плечами, подбитыми ватой; узкий «галстук-селедочка», завязывающийся на микроскопический узел; зонтик-тросточка. У героев американских фильмов «Серенада Солнечной Долины» и «Девушка моей мечты» заимствовали свитера с оленями. Летом, выражаясь языком современных гламурных журналов, были актуальны яркие «гавайские» рубашки, в более холодное время – плащи и пальто. «Я был модный человек номер один. Однажды я купил швейцарское пальто, оно мне было нужно для рекламного броска… Это было роскошное швейцарское пальто… Я ходил в американском „стетсоне”, все по цвету, пальто голубое, до колен», – рассказывает Валентин Тихоненко. Особой популярностью пользовались плащи из болоньи. «Я страшно гордился своим плащом, привезенным из Львова, который тогда считался окном на Дикий Запад, – вспоминает Александр Бронштейн. – Однако „болонья” была рассчитана лишь на дождливую и прохладную погоду. Мы же щеголяли в них и в жару, и в холод – обливались потом, мерзли, но терпели». Многие вещи с великим трудом изготавливались в домашних условиях, их называли «самострок». Из палаточного брезента шили брюки, армяне в мастерских по ремонту обуви «наваривали» на обувь подошвы из каучука – таким образом создавались модные ботинки «на манке». Еще один знаменитый ленинградский стиляга Жора Фридман, по воспоминаниям Валентина Тихоненко, одевался совершенно роскошно благодаря своей матери. «У него мать была очень культурная женщина, добрая, хорошая, такая домовитая, она очень хорошо шила. Все его костюмы – совершенно роскошные, я считаю, что он был стиляга номер один, – это мама ему шила, ему надо было только материал купить. А материал покупали в комиссионках, но он безумно дорого стоил, отрез на костюм стоил, кажется, около 2000 рублей, драп-велюр на пальто стоил 800 рублей метр, а этот где-то 700-800…На костюм надо было около трех метров, а еще подкладка, туда ведь нельзя сатин поставить, нужен был натуральный шелк, хороший такой, с металлическим отблеском». Какие-то вещи привозились из братских социалистических стран: из Китая – пестрые галстуки с обезьянами и драконами, с Кубы – «гавайки». Поэт Евгений Рейн вспоминает: «До конца 50-х годов мужчины носили шелковые, зефировые рубашки очень ярких цветов – от бирюзового и рубинового до канареечно-желтого. К таким рубашкам полагался галстук из плотного крепдешина с каким-нибудь экстравагантным рисунком: например, полосатый с желтыми пчелами. Такие галстуки изготовлялись мелкими артелями, иногда попадались очень забавные». Постепенно образ стиляг эволюционировал от эпатажности к более сдержанной элегантности. Стиляги переоделись в твидовые пиджаки с обязательным платочком в кармашке и костюмы-тройки. Гипертрофия закончилась. Вообще далеко не все стиляги были похожи на героев «крокодиловских» карикатур: «Бывали простенькие, но очень красивые костюмы, все были чисто шерстяные. В те времена хорошим материалом считалась чистая шерсть, 100-процентная, хорошего цвета. Костюмы были со вкусом, не было диких цветов, как комсомольцы писали. Были у меня плащи, шуба у меня была, английское пальто ратиновое… А эти писали – „попугайское”. Разве в Англии делают попугайское?» – говорит Валентин Тихоненко. «Я всегда любил строгую моду, и галстуков с петухами у меня никогда не было», – рассказывает Борис Алексеев. Отдельным шиком считались предметы роскоши: трофейные зажигалки и портсигары, редкие в те годы авторучки, американские игральные карты с полуобнаженными девушками, изображенными в стиле Pin-up. «И кокотку из скандинавской редакции с ее порочным чувственным ртом!…»
Девушкам прослыть стилягой было гораздо проще. Один характерный акцент во внешности, западная деталь в гардеробе, минимальная косметика на лице – и «граждане» оглядывались на такую «девицу» с осуждением. Даже попытки соблюдать диету вызывали неодобрение: худосочные красотки на шпильках – не чета дородной девушке с веслом, кайлом и силовым кабелем!
Любые усилия выглядеть не как все вызывали жесткую реакцию официальных ревнителей «хорошего вкуса»: «По-модному истощенно-худая, бледная, на истомленном лице ее черные глаза тонули в густой черной тени. Пышные волосы были взбиты высоко вверх. Платье – в матово-черных разводах, тоже словно вычерченных тушью… Повеяло от этой женщины, словно сошедшей с картинки западного журнала, смрадом того гниющего мира, где человек не умеет уважать человека. Нет, эта гадкая манера разрисовывать лицо не подходит нашим жизнерадостным, прямодушным, честным, хорошим женщинам!» – проповедует один из памфлетов тех лет. Наказывали за непокорность общепризнанному вкусу женщин наравне с мужчинами, а иногда и более серьезно. Помимо оскорбительных ярлыков и унизительных товарищеских судов, девушки расплачивались своей внешностью. Любой рейд на стиляг мог закончиться принудительной стрижкой, а короткие волосы у женщины сразу наводили на мысль о том, что обладательница радикальной стрижки была застигнута «на месте преступления». «Однажды мы шли с моей женой Ниной по Невскому проспекту, и она отличалась от всех остальных пешеходов тем, что у нее была юбка с разрезами, сделанными мамой в соответствии с требованиями журнала „Польша”, и носила прическу „венчик мира”, модную тогда. А на мне был клетчатый, чешский какой-то пиджачок, купленный в комиссионном магазине рублей за 8. Этого было достаточно, чтобы дружинники нас схватили и попытались ее обрить, но, на наше счастье, поэт Юрий Голубенский, который был в этой дружине, „наш человек”, как-то заступился и нас отмазал», – рассказывал лондонский бизнесмен, в прошлом ленинградский стиляга, Александр Шлепянов. Впрочем, модниц советских времен не останавливали гласные и негласные запреты. Чувихи копировали фасоны из более-менее доступных социалистических или прибалтийских журналов и наряжались весьма ярко. Носили выразительно подчеркивающие фигуру юбки с разрезами, длиной чуть выше колен (тогда это считалось коротко); женские брюки; цветастые шелковые блузы и платья, иногда с достаточно глубоким декольте; капроновые чулки; туфли на высоком каблуке с удлиненными носами. На голове сооружали прически, совершенно невообразимые среди «примерных гражданок»: или взбитую копну волос, или короткую стрижку с торчащими во все стороны неровными вихрами. Стиляга необыкновенный, подвид оригинальный
Как у любого модного течения, у стиляжьей моды существовали и различные местные варианты. Например, свой характерный стиль процветал в Баку. Будучи городом-портом, Баку традиционно отличался космополитизмом. Местные денди могли себе позволить доставать стильные наряды непосредственно у иностранцев и свысока смотрели на «самострок». Самым шиком считалось одеться и вести себя так, чтобы не отличаться от западных туристов.
К 60-м годам стиляги начинают одеваться совсем иначе, чем 10 лет назад. «Мы себя так называли – „штатники”. Потому что одевались по американской моде: серые широкие пиджаки, основательные такие туфли, как корабли непотопляемые, плащи с верхней пуговкой… У нас было много признаков, по которым мы узнавали друг друга. Мелочи – как пуговица пришита, как заделан шов, пряжечка какая…» – говорит легендарный стиляга Бэмс, ставший героем пьесы В.Славкина «Взрослая дочь молодого человека». Были среди стиляг и последователи разных течений. Упомянутые выше «штатники» были поклонниками США. «Бундеса» одевались во все немецкое. «Финики» – в финское. Многие обладали действительно изысканным вкусом и умели сочетать вещи не только грамотно, но и новаторски. Молодежные течения, подобные стилягам, существовали не только в СССР. Английские teddy boys рассекали рабочие окраины Лондона в облегающих брюках, галстуках-бабочках, пиджаках с бархатными обшлагами и замшевых туфлях на толстой подошве. Австралийские Bodgies – предшественники байкеров – тоже носили брюки-дудочки и черные кожаные куртки. Японские Tayozoku увлекались узкими брюками, гавайскими рубашками и черными очками – совсем как советские стиляги. ***
Конечно, не только во внешнем виде выражалось мировоззрение стиляг. Музыка, которую слушали и под которую танцевали; книги, которые читали; образ мыслей и стиль поведения были не менее важны в этом мире протеста. Но стиляг встречали именно по одежке – и свои, и чужие. Именно за неподобающую прическу могли доставить в милицию, а за «идеологически чуждую» рубашку проработать на комсомольском собрании; и именно за смелость надеть «стильную шмотку» принимали в ряды своих – тех, кто среди серой зажатой массы хотел быть просто человеком, красивым, веселым и свободным.
|
| Сайт создан Шингиреем Алексеем при помощи хостинга Народ/Narod в 2009 году (c) |